Вадим Воронин
Миры Вадима
19 марта - 30 апреля
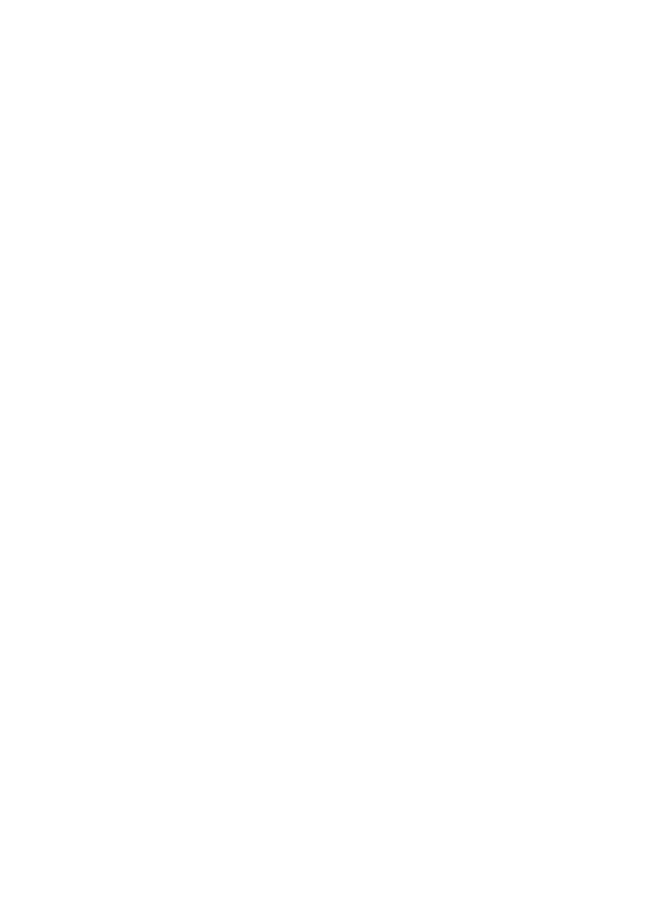
Явление картин Вадима Воронина (1963-2002) на суд зрителей и знатоков открывает нам многообразие русского советского андеграунда.
Извлеченные из коллекций друзей и родственников, они производят впечатление сложившейся художественной системы, которая не опирается на школу, но черпает свое вдохновение из разнообразных культурных ассоциаций.
Вадим Воронин не учился профессиональному художеству. Но совершенно очевидно, что он был очень «насмотренным».
Вадиму был своейственен созерцательно- философский взгляд на мир. Его взор точно парит над условно переданным пространством и помещенными в нем фигурами. Но это не абстрагированная живопись, она сюжетна и наполнена глубоким внутренним содержанием,
У Воронина есть любимые темы и мотивы, некоторые из них взяты из христианских сюжетов. И это типично для конца советской эпохи, когда экзистенциальная пустота жизни переполненная трескучим официозом, противостоялась интеллигенцией тихими религиозными поисками.
Его Моление о чаще — это обобщенная фигура в профиль на фоне почти готических арок, протягивающая руки к сияющему сосуду. В этой работе Воронин традиционно монохромен. А вот в Воскрешении Лазаря спеленатая фигура друга Христа окружена радостным золотым фоном, который прорезан яркими средневековыми домиками. И здесь еще один источник вдохновения — нидерландские старые мастера, культура времен Босха и Брейгеля, также глубоко наполненная религиозным смыслом.
Плоскостность иконного письма Валима Воронина соседствует с условно трактованной пространственностью, где перемешанны кукольные североевропейские домики, силуэты далеких гор, огни и антенны мегаполиса. На фоне не то петербургских, не то амстердамских каналов гуляют влюбленные рыбы в старинных одеждах, а люди и птицы покидают некий бездушный город.
В картинах Вадима мы видим множесво культорологических кодов и ассоциаций. Соединение общеевропейских мотивов и авангардных приемов работы с двухмерной плоскостью картины, русской религиозности и таинственной печали с оригинальной фантазией самого автора - асе это отражает дух конца советской эпохи, напитанной культурными ассоциациями и атмосферой еще не забытого шестидесятничества.
Извлеченные из коллекций друзей и родственников, они производят впечатление сложившейся художественной системы, которая не опирается на школу, но черпает свое вдохновение из разнообразных культурных ассоциаций.
Вадим Воронин не учился профессиональному художеству. Но совершенно очевидно, что он был очень «насмотренным».
Вадиму был своейственен созерцательно- философский взгляд на мир. Его взор точно парит над условно переданным пространством и помещенными в нем фигурами. Но это не абстрагированная живопись, она сюжетна и наполнена глубоким внутренним содержанием,
У Воронина есть любимые темы и мотивы, некоторые из них взяты из христианских сюжетов. И это типично для конца советской эпохи, когда экзистенциальная пустота жизни переполненная трескучим официозом, противостоялась интеллигенцией тихими религиозными поисками.
Его Моление о чаще — это обобщенная фигура в профиль на фоне почти готических арок, протягивающая руки к сияющему сосуду. В этой работе Воронин традиционно монохромен. А вот в Воскрешении Лазаря спеленатая фигура друга Христа окружена радостным золотым фоном, который прорезан яркими средневековыми домиками. И здесь еще один источник вдохновения — нидерландские старые мастера, культура времен Босха и Брейгеля, также глубоко наполненная религиозным смыслом.
Плоскостность иконного письма Валима Воронина соседствует с условно трактованной пространственностью, где перемешанны кукольные североевропейские домики, силуэты далеких гор, огни и антенны мегаполиса. На фоне не то петербургских, не то амстердамских каналов гуляют влюбленные рыбы в старинных одеждах, а люди и птицы покидают некий бездушный город.
В картинах Вадима мы видим множесво культорологических кодов и ассоциаций. Соединение общеевропейских мотивов и авангардных приемов работы с двухмерной плоскостью картины, русской религиозности и таинственной печали с оригинальной фантазией самого автора - асе это отражает дух конца советской эпохи, напитанной культурными ассоциациями и атмосферой еще не забытого шестидесятничества.
